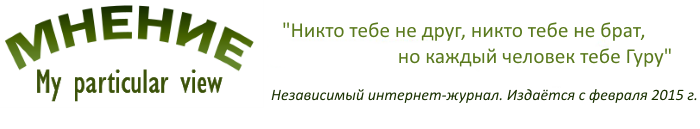БЕДЫ И РАДОСТИ ОДНОЙ СЕМЬИ
Мы попросили Сергея Юрского рассказать о маме, но Сергей Юрьевич замялся: «Только о маме? А как же отец? А война? А цирк, с которым связано все мое детство? Одно без другого немыслимо. Можно?» Конечно, можно…
Самые ранние воспоминания: мама всегда нарядная, хорошо пахнущая, никак не домашняя, а как бы откуда-то вошедшая. А мама последних лет – это женщина, преодолевающая свое одиночество: после смерти отца я старался чаще быть рядом и даже выступал вместе с ней на концертах, но это, разумеется, не могло вернуть нашу прежнюю жизнь.

На фото: Евгения Романова, мама
«Семью отправили в ссылку»
Моя мама – Евгения Романова родилась оптимисткой. У нее было еще две сестры – Анна и Раиса и брат Яков. Анна была строгая, Раиса – печальная, а Яков – талантливый озорник. Он работал инженером, ходил всегда в белом и слыл джазменом. Тетя Аня была серьезным ученым в текстильной промышленности.
Мама блестяще окончила консерваторию. К окончанию родители подарили ей прекрасный кабинетный рояль – коричневый Tresselt. Она собиралась концертировать. В репертуаре – Шопен, Рахманинов, Скрябин. Но... Петроград, 1920-е годы... Какой уж тут Шопен.
К 1930 году мама увлеклась театром, сочетанием музыки и движения, ритмикой, системой Далькроза. Группа энтузиастов создала агитационно-экспериментальный Театр-Клуб. Режиссер и главный актер театра – Юрий Сергеевич Юрский (Жихарев) – влюбился в красивую пианистку. Они поженились. Отметили этот союз в шумной компании 23 сентября и потом никогда эту дату не забывали.
Я родился в Ленинграде, но уже нескольких месяцев от роду оказался в Саратове. Причина – ссылка, в которую отправляли нашу семью за дворянское происхождение отца. Впрочем, нам еще повезло: Саратов – это не Магадан. Там мы прожили два года, а потом вернулись в Ленинград. Получили комнату! Большую – 26 метров. Правда, в густонаселенной коммуналке, но зато в самом центре, напротив Аничкова дворца. Рядом был цирк, худруком которого и назначили Юрия Сергеевича.
В детстве я был свидетелем артистического таланта отца: его умения рассказывать истории, анекдоты, умения показывать, его чтения стихов, его живой мысли, всегда сверкающей в оценках и суждениях. Но свидетельствовал я также и смертной тоске отца, его мучительному раздвоению – искренней вере в идеалы и осознанию реальности как смеси фальши и насилия – и обостренному чувству вины. Мы жили не просто скромно, мы жили бедно. Но понимаю я это только сейчас. А тогда... все обволакивалось отцовским юмором, его фантазией, его совершенно аристократическим умением довольствоваться минимальным.
 Фото: "На отдыхе с родителями"
Фото: "На отдыхе с родителями"
«Война застала нас в Сочи»
РАБИС – теперь это слово забыто, а мама и папа были РАБИС – работники искусства. У РАБИС был свой дом отдыха под Сочи.
В 1941-м мы отдыхали там вместе. Плескалось Черное море. Главный цвет одежд был белый. Циркачи окружали известного режиссера Юрия Юрского. Красота и веселье!
Но война превратила курортное побережье в месиво неразберихи и паники. И началось движение в медленно шевелящихся поездах не туда, куда едешь, а туда, куда везут. Мы ехали в Ленинград, в который нас уже не пустили. Добрались до Москвы. Отец остался в Москве, а мы с мамой двинулись дальше – на Урал. В Свердловске не нашлось пристанища и работы. Дальше был Ташкент, потом Андижан. Трудное, голодное время, но мама всегда была оптимисткой. И с маленьким ребенком на руках (то есть со мной) создала и возглавила в Андижане, набитом эвакуированными, первую детскую музыкальную школу. Невероятно, но в этих тяжелейших условиях, где не хватало еды и жилья, занятия музыкой отвлекали детей. Впервые в жизни у мамы появилось свое дело. Не общее, где она «одна из», а свое, когда несешь ответственность за все.
Разгром в цирке
Но тут папу назначили худруком Московского цирка, и он вызвал семью в столицу. Мама оставила свое детище, потому что главный в семье муж и его судьба определяет все. Жилья не было. Но в углу циркового коридора, рядом с гримерными, освободили для руководителя полторы комнаты от бывшей бухгалтерии. Туалет общий на весь коридор.
Как все женщины цирка, мама пыталась шить босоножки и продавать их на рынке, но это ей давалось с трудом. Не сравнить с игрой на рояле…
Инструмента у нас не было, а на другой стороне коридора, в клоунской студии, пианино стояло. В выходной день, бывало, когда затихал коридор, из-за клоунской двери раздавался Рахманинов.
Так мы и прожили целых пять лет за кулисами Московского цирка на Цветном бульваре. У отца было много друзей в самых разных областях искусства, и он их всех привлек к работе. Исаак Дунаевский писал музыку для новых программ, Рындин оформлял арену изумительными коврами, на которых в интермедиях танцевали выдающиеся балерины Большого театра. Ханов громовым голосом читал стихи пролога.
Часто отец княжеским жестом распахивал дверь и восклицал: «Жека (так он называл маму), у нас гости!» И в комнату входили знаменитости.
При цирке образовалась студия разговорных жанров. Бывшие фронтовики ринулись в клоуны. Среди первых поступивших был Юра Никулин. Музыкальные дисциплины «разговорникам» преподавала моя мама.
Но вдруг все оборвалось. Среди многочисленных и ужасных разгромов в разных областях науки и искусства состоялся и разгром циркового руководства. Отец был снят с работы и исключен из партии. Формулировка – «за формализм в цирковой режиссуре и неправильный подбор кадров». Мы вернулись в родной Ленинград, если не к разбитому корыту, то к пятнистой с трещинами ванной – единственной на 27 жильцов коммунальной квартиры на Толмачева.
Спасение семьи
Три года отец был безработным. Пытался восстановить свои права, былые связи. Не получалось. Начал пить. Денег не было. Продавали вещи из прежних запасов. И тогда мама взвалила на себя спасение семьи. Стала давать частные уроки. Звучал все тот же коричневый Tresselt, раздражая соседей. Потом она устроилась педагогом в детскую музыкальную школу. И начался ее ежедневный путь через Литейный мост в любую погоду – пять километров пешком.
Мне нечем возместить мой долг перед мамой. Только памятью... Мне некому объяснить то, что сам я понял с таким опозданием, – она была носителем театрального таланта высокой пробы. Она была важнейшим моим режиссером в течение многих лет. Мама не научила меня играть на рояле (виной тому только я сам), но научила меня музыке. Ее придирчивость, неуступчивость в оценках всего, что я делал и показывал ей в виде проб, все то, что так сильно раздражало и обижало меня тогда, потом оказалось школой гармонии, школой СООТВЕТСТВИЯ замыслу и выявлению ритма и смысла – целого и его образующих.
Потом фортуна снова повернулась к папе лицом, и началась активная деятельность. Он успешно поставил несколько спектаклей в Театре комедии, стал начальником театрального отдела Управления культуры Ленинграда, худруком Ленконцерта. При этом мы по-прежнему жили в коммунальной квартире. И по-прежнему не было денег.
Беседа с Эрдманом
Отец отговаривал меня от театра (и отговаривал, и завлекал одновременно) иногда таким образом: «Знаешь наизусть первую сцену Хлестакова? Давай сыграем: ты – Хлестакова, я – Осипа, а мама пусть судит. У тебя роль выигрышная, у меня – невыигрышная, кто кого переиграет?»
Стали играть. И хотя мама всей душой желала мне победы и сочувствовала, отец переиграл. Мы с ней оба хохотали над «невыигрышным» Осипом, я бросил играть и сдался. Отец сказал: «А ведь я не играл двадцать лет. Если хочешь быть актером, ты должен меня переигрывать». И шутка, и забава, и горечь, и… школа. Отец был режиссером-профессионалом, но у него никогда не было достаточно времени для меня. Когда его творческая жизнь наладилась, он работал с утра до вечера. И он так рано умер. Я был еще студентом, когда его не стало.
А мама отдала многие часы и долгие годы, чтобы без готовых формул и проповедей внедрить в мое сознание музыку слова. И нельзя сметь произносить слова со сцены, если ты не почувствовал, не отыскал внутреннюю музыку именно этого текста. В этом и есть творчество актера.
Помню, когда в 60-х я познакомился с Николаем Робертовичем Эрдманом, он в разговоре бросил такой парадокс: к классикам надо относиться легко, как к старым знакомым, они и так гении, а вот с современниками надо обращаться, как с гениями. Они от этого приподнимутся. Когда я рассказал маме об этом разговоре, она очень обрадовалась: конечно, знакомый текст, нотный или словесный – не важно, он уже в нас, и здесь возможна импровизация, а новое, исполняемое впервые – оно еще не открыто. Оно еще только должно стать музыкой. И если этого не случится, значит, это вообще недостойно внимания.

Мамин камертон
Смерть отца была ужасна своей внезапностью. У него было много работы и много неприятностей в Ленконцерте. Начался Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Да еще параллельно в их единственной с мамой комнате отец затеял ремонт. Что такое ремонт комнаты внутри коммунальной квартиры в 1957 году, знают только те, кто тогда жил. В июле мы втроем вырвались из всех забот и уехали в дом отдыха Комарово под Ленинградом, куда ездили каждое лето. Прошла неделя. 8 июля случилась смерть. «Скорая помощь» не успела.
Толпы людей на похоронах в Театре эстрады. Потом мы с мамой уехали на целый месяц на Волгу – так советовали друзья. В ту же осень я стал актером в театре, и надо было продолжать учебу в институте. И вообще, началась моя взрослая жизнь.
Маме предстояло одиночество, она любила один раз. Но было мужество, были силы и была музыка. Успехи учеников стали ее радостью. Она сама стала учиться – появилось время для этого. Ее увлек семинар знаменитого органиста Браудо. Его систему она стала внедрять в свои занятия. Мама каждый день начинала с гимнастики – общей и специальной гимнастики для пианиста. Почти учебником стала для нее философско-медицинская книга Мечникова «Уроки оптимизма». В летнее время мама обязательно уезжала в путешествие. Побывала даже за границей, в Румынии. Она много читала. Тайно начала вести дневник и писать стихи. О смене времен года, о том, что и в осени есть радость. Спасала опять же музыка – часто ходила в филармонию.
Мама гордилась мною, радовалась. Но никогда – говорю это совершенно определенно теперь, через много лет, через неоднократно проверенные воспоминания, – никогда она не становилась «мамочкой», восторженной поклонницей, принимающей все, что делает ее сын, и оберегающей его от любого укора. Она и в восприятии была истинным музыкантом и артистом. В ней звучал камертон точного чистого звука, и по нему она мерила все, что претендует называться искусством.
Готовилась стать бабушкой
Утром 25 апреля 1970 года мы с Наташей Теняковой решили расписаться. В десять утра в загсе на проспекте Маркса, кроме нас, было двое свидетелей и мама. Все прошло быстренько. И вернулись мы на такси всё в ту же мамину комнату. Стол был накрыт заранее. Скатерть белая. Вино, колбаса, сыр, шпроты. Посидели минут тридцать и... на работу! День субботний: утренний и вечерний спектакли. Мама была радостной. Наташа ей нравилась. Она даже (впервые!) заговорила, что готовится стать бабушкой. А вообще это звание к ней не шло. Евгения Романова-Юрская была дамой.
В навороте событий следующего года было все – надлом жизни в театре, съемки фильма, невероятное количество спектаклей в Ленинграде и на гастролях. Но все пронзила болезнь мамы. Профессор Снежко в откровенном разговоре не оставил надежды. После операции маму перевезли к нам, на Московский проспект. Только тут довелось ей проститься с комнатой в коммуналке, в которой она прожила с перерывами тридцать с лишним лет.
И вот в июле мы с Наташей играем спектакль «Лиса и виноград» в городе Куйбышеве (ныне Самара). Седьмого приходит телеграмма о том, что маме совсем плохо. Товстоногов отменил спектакль, я полетел. Но опоздал. 8 июля, в день смерти отца, только через четырнадцать лет, я увидел мою маму, которой уже не было. Мне рассказали, что мама держалась мужественно.
…Мне странно, что теперь я старше моих родителей. Но я по-прежнему в мыслях смотрю на отца и маму снизу вверх. Восхищаюсь их стойкостью, их талантом, их самоотверженностью. Их могилы в одной ограде. Деревья, которые тогда только посадили, теперь высокие. Такие высокие, что надо сильно задрать голову, чтобы увидеть вершину.

В спектакле «Полеты с ангелом» тоже звучит монолог о маме.
Фото: Михаил Гутерман