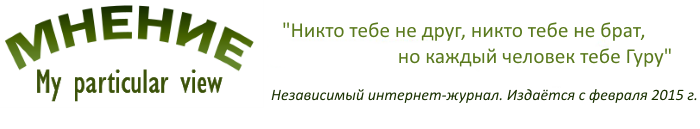«Меня вышибли из школы за участие в диссидентстве»
Среди поэтов и, композиторов, сценаристов и драматургов, бардов и артистов есть одно известное имя, которое успешно объединяет в себе все. Живой, неугомонный, веселый человек, Юлий Черсанович Ким, прославился еще в шестидесятые годы прошлого века своим честным и смелым отношением к окружающей действительности. Прошел огонь, воду и медные трубы, совершенно не меняясь. По-прежнему дружит, невзирая на отсутствие медийности, со всеми своими однокашниками и земляками, которых у него огромное количество в разных точках нашей необъятной Родины. 23 декабря Юлию Киму исполняется 75 лет! Юбиляр легко сбежал от официоза поздравлений, но корреспонденту НИ удалось побеседовать с одним из самых знаменитых российских бардов...

- Вы ведете чрезвычайно насыщенную гастрольную жизнь, вы объездили полмира, уже полвека занимаетесь активной концертной деятельностью, понятно, что вы очень востребованы и все хотят вас послушать, но насколько это доставляет удовольствие Вам?
- Это свойственно, вероятно, любому выступающему человеку: одно из самых сильных и счастливых ощущений – это когда то, что ты поешь или читаешь со сцены, ты чувствуешь, что все до последней запятой понимается публикой, до последнего слова. Поэтому после каждого концерта я с прагматической точки зрения, а также с исследовательской точки зрения выписываю, во-первых, всю программу, которую пел, чтобы не повторять ее, если я снова окажусь в этом городе, во-вторых, всегда выставляю оценку реакции собравшейся публики по пятибалльной системе. Двоек у меня не было никогда, троечки попадались очень редко, дела складываются таким образом, что я произвожу предварительную разведку, на какую публику меня зовут. Часто теперь звонят какие-то продюсеры, которые толком не знают, собственно, кто ты такой. Иногда звонят просто: «Нет ли у вас телефона Киркорова?».
И вот, когда выходишь на сцену и чувствуешь абсолютное понимание публикой того, что ты делаешь, как ты это делаешь, как воспринимаются акценты, расставленные тобой, вовремя ли смеется и затихает зал…, вот такой стопроцентной реакции я жду и нередко ее встречаю. В этом смысле мне запомнилась аудитория нашей московской 67-й средней школы, где есть гуманитарные классы, и на мои выступления приходили не только старшеклассники, а и выпускники, и учителя, там было абсолютное понимание и чувство абсолютного счастья. И такое же чувство я испытал в Ижевском Гуманитарном Университете лет десять тому назад, вроде давно, но запомнилось сильно…
- Бардовская песня за рубежом - в том же виде, в каком существует в России? Многочисленные бардовские фестивали, слеты, концерты, собирающие большую аудиторию…, это только наши эмигранты ностальгируют, или к ним все же присоединяется местное население?
- Хороший вопрос. Я мог бы назвать в первую очередь Булата Окуджаву в смысле известности за рубежом…
- В Польше его обожают…
- Я только что хотел это отметить, может быть еще во Франции, но в Польше его знают очень хорошо и очень хорошо поют и по-польски, и по-русски. В Израиле Окуджаву тоже поют, но это уже наша русскоязычная публика, но утверждать, что коренные израильтяне любят Булата, не буду, хотя его там поют и на иврите, в том числе, и там я бывал на фестивалях имени Булата, памяти Булата. Что касается меня, меня немножко переводили те же поляки и, как ни странно, датчане. Вот совсем недавно скончался любимый мой датчанин, который был влюблен в нашу бардовскую песню, и в этом году сделал мне неоценимых два подарка: книгу своих переводов бардовских песен, в которой – четыре имени (Галич, Окуджава, Высоцкий и я). Там текст по-русски и текст по-датски, он сюда приезжал и у нас был совместный концерт в Жуковском, где он пел свои переводы, и был замечательно воспринят публикой. Еще он привез мне два экземпляра моей самой первой книжки в жизни, потому что она вышла именно в Дании в 1989-м году, как говорится, впервые в мире. А на следующий год уже состоялся тройной залп: вышли три моих книжки уже в Москве, но это уже был 90-й год и признаки новейших времен.
И, чтобы закончить эту тему: все мои концерты за рубежом происходят на русской публике, в крайнем случае, перед славистами. Ах да, меня еще выловили корейцы, повезли в Сеул нас с женой, мы с таким удовольствием провели там чудесное время. Жалели только об одном, что меня каждый день таскали по выступлениям то в библиотеке, то в институте, то еще на каком-то собрании, и у нас только было два дня побродить по Сеулу. Вот там я действительно выступал перед корейцами, которые учат русский язык, но они были обеспечены все переводами моих песен на корейский язык.
- Ваша география так переплетена с биографией и так запутана!
- Но и проста одновременно. Родился я в Москве, через полтора года родителей арестовали, отца выслали в лагеря, нас (меня и сестру) взяла наша родня в Люберцах, там мы пережили войну. После войны маме нельзя было жить в столице, таким образом, мы оказались в Малоярославце за 101-м километром. Затем, в 1951-м году, когда стало жить невыносимо материально, сестра осталась на попечении родни учиться в московском Меде, а мы с мамой уехали в Туркмению, в город Ташауз. Устроилась она там не по специальности (она – педагог), но тогда Сталин еще не подох, и ей нельзя было преподавать в школе, она стала вторым помощником младшего экономиста. Зарплата была небольшой, но ее хватало с лихвой, потому что там все было дико дешево и невероятно вкусно: виноград, дыни, арбузы, плов и все такое…, после голодного Малоярославца я там отъелся в секунду. Три года мы там прожили, а потом я вернулся в Москву, а в 1957-м году пошла хрущевская реабилитация и я, уже учась в институте, реабилитировал своих родителей: отца – посмертно, а мама получила возможность вернуться из Туркмении. Окончив институт, я уехал на Камчатку, потом опять вернулся в Москву, поработал в двух московских школах, затем меня вышибли из просвещения за участие в диссидентстве, но тут я уже прочно зацепился за театр и кино, и начальство мне здесь уже не мешало, правда, я прикрылся псевдонимом…
- Но у вас и до псевдонима были песни «будь здоров»…
- Песни «Будь здоров» были и у Галича, которому сильно доставалось за песни…, хотя мне тоже однажды поминали мои песни на Лубянке, где со мной провели большую беседу после того, как меня отлучили от учительства…
- Писатель Сомерсет Моэм однажды сказал, что «чем больше у нас проблем, тем сильнее созидательное начало…»
- Я не думаю, что это – закон. Вот у меня есть замечательный приятель, друг, наша с ним дружба зашкаливает за пятьдесят лет, человек вам хорошо известный - поэт Юрий Ряшенцев. Он, на первый взгляд, человек совершенно, безмятежный, творит, как дышит, и о себе он любит рассказывать весело и убежденно, как о человеке обломовского склада… Но при всем его внешнем благополучии, я знаю, что его мучает множество проблем, как, впрочем, и всякого человека, и сказать, что эти проблемы являются источником его творчества, я никак не могу. Наверное, здесь речь идет о том, что художник мир чувствует острее, чем другие люди, и больше переживает.
- Вы пишете песни, ни на кого не похожие, очень узнаваемые по присущей только вам манере. Кого вы могли бы назвать своим учителем?
- Источник того, что я бы назвал своей интонацией в поэзии, источник многообразный. В первую очередь, это, конечно, моя мама, у которой я научился первым шагам в стихосложении, самым простым понятиям ритм, рифма, все это от нее. И, конечно, институт. Мой педагогический институт, где меня окружали роскошные люди вроде Петра Фоменко, Юрия Коваля, Юрия Визбора, Ады Якушевой и минимум еще десять тамошних друзей я могу вам назвать, имена которых вам не скажут ничего, а для меня они были первостепенными лицами, которые влияли на все. Если есть мой особенный язык в поэзии, то этот язык сложился именно под влиянием моих однокашников по институту.
- То есть, можно сказать, что вашим учителем была среда?
- Именно среда, в которой я варился, которую я слушал. Я прибыл в институт из города Ташауз Туркменской АССР (в котором учился с восьмого по десятый класс) не то, чтобы малообразованным, я был отличником в смысле школьного образования, но и только, а все остальное в меня попало уже в институте. Для меня в десятом классе обтрепанный томик Есенина стал открытием, я так был поражен, что читал его все пять уроков, пока химичка у меня не отобрала его и, к сожалению, присвоила себе навсегда. Так что я был таким ограниченным школьником.
- Но ведь ваша мама преподавала литературу…
- Да, преподавала, но в рамках школьной программы, ведь было глухое сталинское время, и до Есенина руки даже у нее не доходили. Александр Блок был представлен одной лишь поэмой «Двенадцать». Слава Богу, Маяковского давали в полном объеме с одобрения Сталина, а вместе с Маяковским просочились и какие-то крохи футуризма, и серебряного века русской поэзии, и какие-то имена, вроде Вертинского или Игоря Северянина. А в институте все уже поголовно читали и Цветаеву, и Ахматову, и Пастернака, помню Юра Ряшенцев в пятидесятых годах страницами декламировал Ильфа и Петрова, а там я уже и до Бабеля добрался, так что все это влияло на меня самым неотразимым образом.
- А интересно, вы сами можете назвать своим учеником кого-то?
- Нет, назвать не могу, хотя знаю, что Тимур Шаов иногда кличет себя моим учеником, еще мы познакомились и подружились с Мишей Щербаковым, которого я на сегодняшний день почитаю поэтом номер один в нашей литературе. И со мной согласен такой авторитетный человек как Дима Быков, и мы дружны с Димой Быковым, во всяком случае, очень симпатичны друг другу еще и потому, что его матушка училась со мной на одном курсе, и я его держу за родного племянника (смеется), племянника, конечно, в высшей степени талантливого!
- Вот мы плавно и перешли к любимым писателям. Что вы сейчас читаете-перечитываете?
- Я не могу сейчас толком выделить. Более или менее постоянно я обращаюсь к творчеству Давида Самойлова, с которым я был знаком, и книги которого стоят у меня, как говорится, в изголовье, их время от времени я открываю и испытываю наслаждение, близкое к гастрономическому. К Иосифу Бродскому у меня отношение в высшей степени почтительное, хотя не все в нем я постигаю. Конечно, перечитываю Пастернака и Мандельштама. Еще у меня на полке стоят Иртеньев и Кибиров. Очень любимый мною и, по-моему, толком недооцененный поэт Лев Лосев. Мы с ним даже состояли в некоторой переписке, и у меня есть несколько шутливых автографов на авторских сборниках, присланных им.
Что касается прозы, то мне всегда было интересно открывать новые имена, и, когда у меня как-то случилось довольно много времени, я позволил себе погрузиться в новейшие фамилии и я завел полку авторов, которых не буду читать никогда. В первую очередь туда полетели все наши дамы-детективщицы, а я люблю в дороге почесать глаза о детектив. Я помню, когда пару раз летал в Америку, то эту дорогу измерял в «агашках» от имени Агаты Кристи. Дорога из Москвы в Нью-Йорк равнялась двум «агашкам», дорога из Москвы в Калифорнию – уже трем (смеется). Никак не могу найти времени, но мне очень хочется перечитать немножко Толстого, немножко Чехова, Достоевского, но руки не доходят и, как жена любит повторять: «Чукча у нас – не читатель, чукча – писатель…».
- А до газет, телевидения и журналов руки доходят?
- Конечно, конечно, я смотрю телевизор, все новостные программы, аналитические программы, с интересом смотрю дискуссии, которые там разводит Володя Соловьев, Светлану Сорокину смотрю всегда с интересом. Когда я живу в Израиле, смотрю постоянно программу «Особое мнение», она там по будням идет. Граждане Проханов и Шевченко вызывают у меня чувство резкого отторжения, чтоб не сказать хуже, но все равно это смотреть интересно, я размышляю, как бы я смог им возражать, что бы я мог им противопоставить…, это хорошая школа для такого рода упражнений.
- Приглашают ли вас на ток-шоу?
- Как-то пару раз Швыдкой звал меня на «Культурную революцию», но по времени у меня не выходило. Но как вам сказать, довольно часто в этой передаче меня поражает «масло масляное и мыло мыльное», обсуждаются вопросы не очень интересные, скажем, «Нужна ли культура?», для меня это не вопрос. Понятно, что все это провокационные вопросы, которые Михаил Ефимович задает исключительно, чтобы заварить кашу. Но смотрю эти передачи иногда с любопытством потому, что там бывают интересные люди и высказывания. Помню передачу, в которой впервые удалось осадить Жириновского, это сделал Марик Розовский. Там обсуждался вопрос демократии или демократов, против которых Жириновский заточен всегда, и вдруг он обрушился на Розовского с криком: «Вот вы говорите, демократия, демократия, а к вам в театр попасть мне невозможно, сколько раз я вам звонил с просьбой?!». А Марик тут же: «…а я вам всегда отвечал, Владимир Вольфович, купите билет…». Жириновский смешался и не нашелся, что ответить.
- Кем или чем вы восхищаетесь?
- Меня всегда радует чья-нибудь художественная удача, ну, конечно, в первую очередь, если что-то получилось у моих друзей. Недавно Ряшенцев зазвал нас с женой и еще несколько человек к себе, и целый вечер читал нам свою пьесу. Эта традиция уж давно исчезла из обихода писателей, литераторов и поэтов. Послушав его новую пьесу по мотивам Мольера «Единственный наследник», я получил несказанное удовольствие, поздравляю его с этой удачей, это получилось замечательно: и с мыслью, и с содержанием, и с остроумием человеческим! Второе удовольствие я получил, будучи приглашенным известным продюсером Дмитрием Богачевым на премьеру мюзикла «Звуки музыки», после первого действия я весь был в слезах…
- В хорошем смысле?
- В хорошем, я очень сентиментален, а тут вовсю разыгрывается сюжет, который в любом виде, даже самом пошлом изложении (женщины и дети) действует на меня всегда неотразимо: по мне ползут слезы, когда я вижу сироток, с которыми после всяких неприятностей вдруг оканчивается все благополучно, или наоборот…
- Остап Бендер тоже успешно пользовался этим литературным приемом…
- Да, да. Так что, дай Бог, этому мюзиклу успешной жизни! Очень меня радовал наш мюзикл «Обыкновенное чудо», целый сезон с октября по март, но, к сожалению, приказал долго жить из-за финансовых проблем. Тем не менее, он был и записал себя в историю наших мюзиклов.
Еще меня радует особенно в теперешней жизни, когда что-то получается у следующего поколения, когда я встречаюсь с примерами успешного существования в этой системе, которая испытывает человека на прочность, как никогда раньше. Если в советское время испытание на прочность проводилось в сопротивлении идеологическому прессу, то сейчас испытание на прочность – в области сопротивления рыночным отношениям. И когда человек становится на ноги без нарушения закона и без ущерба для окружающих, мне это очень нравится. Когда я вижу успешных сорокалетних людей, которые заработали себе на достойную хорошую жизнь, меня в данном случае не смущает то, что они учат своих детей за рубежом, строят себе квартиры где-то…, я на них смотрю не как на буржуев, а как на успешных, самодостаточных людей. Я очень хочу, чтоб их было больше, вероятно это вписывается в банальную формулу: средний класс спасет Россию. Успехи среднего класса меня всегда очень радуют.
- А что вас огорчает?
- Огорчает многое, полагаю то же, что и вас, это наше теперешнее очень плохое государственное и общественное устройство.
- На какие вопросы вам надоело отвечать?
- Не то, чтоб надоело, но я не люблю два вопроса, которые любят задавать иные журналисты, это: «Ваше отношение к женщинам?» и «Верите ли вы в Бога?». Я считаю эти вопросы глубоко интимными для каждого человека и обычно их обхожу.
http://www.newizv.ru/culture/2011-12-23/156858-bard-julij-kim.html
газета «НИ» за 23 Декабря 2011 г.